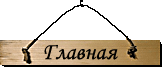|
|||||||||
|
Современная
литературная критика: статьи, очерки, исследования Поэтика прозы Александра Грина Глава 3.
Мифопоэтичность и символичность творческого сознания писателя Усиление символического звучанияСимволична уже внешность Моргианы. Она отталкивающе безобразна, выписана в зловещих тонах: её голова "казалась покрытой темной шерстью", а венчали эту голову "торчащие уши". Самохарактеристика Моргианы довершает портрет: "смесь шимпанзе с идиотом". Наружность животного у неё не случайна. Она предстаёт как адекватная форма внутреннего "идиота", то есть злой сущности. Мифологизм Моргианы подчёркивает и её замкнутое бытие, изолированное от внешнего мира. "Зелёная флейта" — владение, в котором она жила, напоминало небольшой средневековый каменный замок в "диком месте", а густой лес, что окружал его, сообщал этому месту загадочную и несколько пугающую таинственность. В само рождение Моргианы вмешиваются непостижимые злые силы, связанные с сюжетом этюда Гарлиана к его картине "Пленники Карфагена". Этот этюд (голова каторжника) и определил безобразную внешность героини. Эти и другие мифологические приметы усиливают символическое звучание образа Моргианы, ибо символ — это "образ, взятый в аспекте своей знаковости, и знак, наделенный всей органической и неисчерпаемой многозначностью образа" [1, с. 607]. При всей романтической генерализации характера Моргианы она всё равно предстаёт ощутимо индивидуализированным художественным образом. К такому образу вполне применимо понятие "типологический образ" в понимании Гулыги А. В. "Типологический образ в искусстве, — отмечает исследователь, — своего рода контурное изображение. Оно схематичнее типического образа, но зато более ёмкое. Конкретность при этом не исчезает, она теряет долю наглядности... Типический образ ближе к чувственной конкретности, типологический — к понятийной" [103, с. 21]. Такой пособ создания художественного образа допускает его конструктивную условность, известный схематизм, акцентирует сгущённую обобщённость образа. -- Типологичность как эстетическая категория не применима к образу Джесси, ибо она выписана более тщательно, а характер её не испытал жёстких рамок генерализации. Джесси живет в реальном человеческом окружении, в широком общении, а потому освещена гораздо детальнее и выпуклее. Но детализированность эта не размывает крупный характер, не затеняет и его генотипной линии, тесно связанной с проповедью добра и духовности красоты. Её образ выполнен в стиле гриновской романтической типизации. О Джесси как образе-символе, который "разлагается в бесконечный ряд" (А. Ф. Лосев), свидетельствует не только вторая Джесси, здоровая девушка с таким же именем и таким же лицом, но с голубыми глазами, то есть её двойник, но и те три женщины, которые напоминают Детрею по своему душевному складу Джесси Тренган. И хотя они разные по возрасту (старушка, малолетняя девочка и молодая женщина — жена капитана Гойля), в их внутреннем облике Детрей безошибочно ощутил душевное родство с Джесси. Эта генотипная множественность героини и составляет сущность того символа, который она заключает в себе. Именно это одновременно усиливает и её мифологическое начало, ибо миф "мыслит себе общую идею в виде живого существа" [167, с. 145]. В отличие от Моргианы (там речь шла лишь об одном, хотя и "говорящем" этюде), духовный мир Джесси широко комментируется с помощью произведений искусства. Они сопутствуют ей и окружают её. Здесь и "Леди Годива", и "Джиоконда", и "Беатриче", и "Венера Милосская" и др. Вся эта мифология поставлена, естественно, на службу образу-символу. на верх страницы - к содержанию - на главную |
||||||||
|
|||||||||