
|
|||||||||
|
Современная
литературная критика: статьи,
очерки, исследования Ираида Дунаевская
(Рига)
Поясним. «Мир» в православной традиции очень часто заменяется понятием «земля». В результате чего слова «мирское» и «земное» обозначают одно и тоже. Когда Святитель Григорий Нисский говорит о «земных звуках», он подразумевает звуки музыкальные, музыкальные звуки целиком принадлежат миру. Безмолвие та купель, в которой умирая, музыкальный звук рождается в виде певческого богослужебного звука. «И каждый, кто только соприкасался с этим пением, не мог не испытать на себе исходящее от его мелодий ощущение какой-то особой благодатной и возвышенной чистоты, заставляющей относиться к этим мелодиям, как к посланцам горнего мира». (В.Мартынов, Указ, соч., стр.1 9). В богослужебном пении возникновение звука, да и само существование звуковых структур не может являться самоцелью, как в музыке, но есть лишь то, что сопровождает определенные духовные и психические процессы, которые и заключают в себе подлинную цель пения. Чтобы кругообразные богослужебные структуры были воспроизведены в звуковом материале, необходимы звуки особого качества и особого свойства. Это подводит к непривычной мысли о том, что есть подходящие и неподходящие звуки - звуки, из которых могут образоваться богослужебные мелодические структуры, и звуки, которые такие структуры образовать не могут. Однако на непривычная для нас мысль обретает совершенно конкретное практическое звучание в православной традиции, подразделяющей все звуки на звуки небесные и звуки земные, что с предельной четкостью было сформулировано святителем Григорием Нисским: -«Бог повелевает, чтобы твоя жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков (звуками я именую помышления), но получал бы сверху, из небесных высот свое чистое и внятное звучание». В этом простом предложении - два фундаментальных учения, сведенных в единую концепцию: учение о двух путях, приводящих к возникновению звука, и учение о помыслах. Возникновение земного звука связывается с процессом проникновения помысла и сознании. -- В то время как небесное звучание возникает в результате молитвенной победы сознания над помыслом. Борьба с помыслом, происходящая с помощью молитвы, - это процесс, в котором молитва постепенно вытесняет помысл из сознания. Чтобы этот звук явился миру, сознание должно пройти долгий путь - путь вытеснения помыслов молитвой путь очищения сердца, а это произошло уже с героем, который зазвучал... Это своего рода повеление, «чтобы твоя жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков (звуками я именую помышления), но получал бы сверху, из небесных высот свое чистое и внятное звучание», - связано у Грина со звуком, который получает сверху, из небесных высот «свое чистое и внятное звучание» в рассказе «Трагедия Плоскогорья Суан». Уже в этом раннем рассказе появляется тема звучания «маленьких колокольчиков»: «Неслышный призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака, звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у се ног; неподвижная, улыбающаяся всем телом, чем-то растроганная, благодарная неизвестному, Ассунта испытывала желание стоять так всегда, вечно, и дышать и трогать маленькое свое сердце - оно ли это стучит? Оно влажное, теплое; она и сердце - и никого больше" (II, 203). Обратим внимание, как герой романа Германа Гессе «Игра в бисер» воспринимает исходящие от магистра волны: «Во всяком случае, я воспринимал то излучение, которое от него исходило, или те волны, которые наподобие череды вздохов и выдохов, шли от него ко мне и от меня к нему, как музыку, как полностью лишившуюся материальности эзотерическую музыку, принимавшую каждого, кто вступал в этот магический круг, как многоголосная песня принимает вновь «ступающий голос». Отметим: еще раз герой воспринимает «волны, наподобие череды вдохов и выдохов» и называет это действо подобием благодати. Отметим и замечание: «Верно, не музыканту эта благодать раскрылась бы в других подобиях...». (Герман Гессе. Игра в бисер. Москва. 1966 г.). В волнах этого «неслышного призрачного звона» и рождается образ чистого, а значит веселого сердца. Совершенное веселие сердца создается совершенной чистотой души. В образе Асунты и ее сердца Грин создал библейский образ «веселого сердца» (Притч. 15). Без чистоты сердца всегда сохраняется отпечатление тех или иных оттенков нечистоты. Это отмечает, например, Достоевский. «Замечу еще черту несмотря на ласковость и простодушие, никогда это лицо не становилось веселым, даже когда князь хохотал от всего сердца, вы все-таки чувствовали, что настоящей, светлой, легкой веселости как будто никогда не было в его сердце». Достоевский Ф. М. «Подросток». Современник Москва. 1985, стр. 194). И там же: «Чрезвычайное чистосердечие» это предчувствие «почти безгрешного сердца» (См. Ф. М. Достоевский. «Подросток», стр. 373).». (Сравним: «Голос его задрожал, и что-то зазвенело и нем совсем новое» (Ф. М. Достоевский «Подросток», стр 210). на верх страницы - к началу раздела - на главную |
||||||||
|
|||||||||
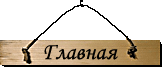
 Своего рода «пение
земли» мы находим и в другом раннем рассказе Грина «Племя Сиург»:
«Часы роняли в траву микроскопическую игру звуков». И здесь из «игры
звуков» выделяется основной звук - звон. «Приятный маленький звон
шел из его руки» - часы звенели» и «Часы играли старинную народную
песенку». И здесь звук идет не от земли, а от часового механизма.
Похоже, что уже в этих ранних рассказах с образом часов, их звоном
было связано предчувствие «безгрешного сердца». Грин начинал с
этого: «Маленькое сердце человека стучало в большом сердце пустыни».
А в повести «Фанданго» после пережитого экстаза герой уподобляет
самого себя приведенному в негодность часовому механизму, при
условии, если ему качнуть маятник. Некий часовой механизм, роняющий
звон, приведен » негодность, в действие вступает качание маятника,
как бы указывающей) на движение сердца, его ритм, а звенит само
естество человека. Весь смысл в открытие сердца, где происходит
встреча человека с Богом.
Своего рода «пение
земли» мы находим и в другом раннем рассказе Грина «Племя Сиург»:
«Часы роняли в траву микроскопическую игру звуков». И здесь из «игры
звуков» выделяется основной звук - звон. «Приятный маленький звон
шел из его руки» - часы звенели» и «Часы играли старинную народную
песенку». И здесь звук идет не от земли, а от часового механизма.
Похоже, что уже в этих ранних рассказах с образом часов, их звоном
было связано предчувствие «безгрешного сердца». Грин начинал с
этого: «Маленькое сердце человека стучало в большом сердце пустыни».
А в повести «Фанданго» после пережитого экстаза герой уподобляет
самого себя приведенному в негодность часовому механизму, при
условии, если ему качнуть маятник. Некий часовой механизм, роняющий
звон, приведен » негодность, в действие вступает качание маятника,
как бы указывающей) на движение сердца, его ритм, а звенит само
естество человека. Весь смысл в открытие сердца, где происходит
встреча человека с Богом.