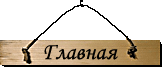|
|||||||||
|
Литературная критика -
Репрезентация творчества Александра Грина в СССР 3.1.2. Советская литературная критика о Грине: поиск жанра (начало::окончание) Однако очевидным становился факт, что даже при помощи насильственно найденных социальных аллегорий [271] Грина нельзя назвать революционным романтиком. Но и к реакционным романтикам причислять его также было нежелательно. А. Клитко в статье «О методе и традициях романтизма» определяет жанр произведений Грина как «романтизм в его пассивной форме» [272]. К этому мнению склонялись и другие исследователи, например Л. Егорова, писавшая, что «пассивный романтизм Грина […] принципиально противостоял методу социалистического реализма» [273]. Ясно, что критики опирались на формулировку Горького, разделявшего романтизм на «активный» и «пассивный». На этой идеологической теореме основаны определения Д. Маркова, сформулированные в работе Проблемы теории социалистического реализма. В главе «Революционный романтизм в процессе формирования социалистического реализма» русский романтизм первой половины XX века подразделяется автором на реакционный и прогрессивный: «реакционным» назван символизм, а «прогрессивным» - «революционный романтизм» Горького [274]. Определением «романтической пассивности» произведений Грина пользовался в начале 70-х годов и Слонимский. По его словам, пассивная мечта писателя противостоит мечте активной, и в этом состоит трагедия Грина, как художника. Например, о романе Блистающий мир [275] сказано: «Смутные и вполне пассивные идеалы главного героя [романа – Н.О.] ежечасно опровергались жизнью в годы, в которые писался этот роман» [276]
-- Однако во всеуслышанье определять Грина пассивным романтиком, противопоставляя его героев канонизированным героям социалистического реализма, было чрезвычайно опасно для дальнейшей судьбы всего творческого наследия писателя. В то же время, причисление его литературоведами – пусть даже из самых благих намерений – к представителям как реализма, так и горьковского романтизма не выдерживало никакой критики. Наклеить стилистическую этикетку на творчество писателя оказалось непосильной задачей для советского литературоведения. Ни в этом ли заключается причина такой ограниченности серьезных исследовательских работ, посвященных творческому наследию Грина?
Не найдя писателю места в
признанных советским литературоведением – и социалистическим
искусством – жанрах, произведения Грина стали называть
аллегорией, ссылаясь на определение, данное Горьким. Так,
Вихров в упомянутом предисловии к шеститомному собранию
сочинений Грина, пишет: Другой выход из ситуации жанровой и стилистической неразберихи предложил Слонимский, назвав Грина создателем «авантюрной новеллы, авантюрного романа», населившего свои книги «моряками, бродягами, бунтарями» [278]. Дать определение жанру гриновских произведений пытался и С. Антонов в статье «От первого лица…» [279]: автор статьи открыто признавал, что «трудно отнести А. Грина к разряду писателей-фантастов» и определял Грина как «реалистического фантазера» [280]. Грину нашлось место и среди писателей-маринистов. Автор книги Русские писатели-маринисты В. Вильчинский так заканчивает свой короткий очерк о Грине: «Рассказы Грина составили одну из ветвей русской маринистики, рожденную в […] условиях начала ХХ века» [281]. Одновременно с Антоновым о художественной принадлежности гриновского творчества писал и другой гриновед - В. Харчев в периодическом издании Русская литература. В статье «О стиле «Алых парусов» А. Грина» критик определил стиль писателя как «поэтический реализм» [282] - видимо ссылаясь на аналогичный термин (Poetischer Realismus), применяемый в отношении немецкой литературы 1850-1900 годов [283]. В выпущенной в 1980 году брошюре Методологические рекомендации по пропаганде творчества А. Грина, особенно интересной, как документ эпохи, можно было прочитать следующее: Из большого литературного наследия А. Грина к фантастике следует отнести: […] известные рассказы «Жизнь Гнора», «Позорный столб», «Сердце пустыни», «Зурбаганский стрелок», «Корабли в Лиссе», «Сто верст по реке» и т.д. [284] Как справедливо уточняет исследователь Ю. Царькова в статье «В уме своем я создал мир иной…», ни один из перечисленных в Методологических рекомендациях рассказов не является фантастическим, «но местом действия всех этих рассказов является вымышленная страна А. Грина, что, видимо, и заставило авторов брошюры назвать эти рассказы фантастическими» [285]. Н. Кобзев в статье «А. С. Грин. Жизнь и творчество», опираясь на свои многолетние исследования творчества писателя, утверждал, что крупная форма произведений Грина «выходит к рубежам следующей жанровой разновидности – социально-публицистическому роману» [286]. Видимо, исследователем по-прежнему руководила привычка искать в текстах Грина социальный подтекст. -По материалам: vwdrive.com.ua-
Психологическим романтизмом
[287] склонен определять творческий метод произведений
писателя известный гриновед Вадим Ковский. В статье
«Настоящая, внутренняя жизнь…», опубликованной в 1990-м
году, он пишет: Необходимо отметить, что споры о принадлежности Грина к какому-либо художественному направлению продолжаются до сих пор. Итак, в эпоху «оттепели» творчество Грина, несмотря на многие недоразумения и методологическую неразбериху (продолжающуюся и по сей день), было официально принято советской идеологией и введено в контекст социалистического искусства. Хотя, как мы увидим из следующего раздела, такое деяние потребовало многочисленных оговорок со стороны литературоведов – вплоть до откровенного насилия над природой гриновских текстов. на верх страницы - к содержанию - на главную |
||||||||
|
|||||||||