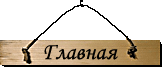|
|||||||||
|
Литературная критика -
Репрезентация творчества Александра Грина в СССР
4.2. Краткая библиография
литературоведческих работ, Поскольку на Западе творчество Грина не столь широко известно, как в странах бывшего Советского Союза и социалистического лагеря, то и литературоведческих работ в области гриноведения насчитывается значительно меньше. На право называться первооткрывателем Грина для англоязычной публики и его самым активным исследователем с полным правом может претендовать ученый-литературовед Николас Люкер (Nicholas Luker). Доказательством тому служит солидное количество работ, посвященных творчеству писателя – кроме того, девяносто процентов публикаций в академической англоязычной периодике принадлежит именно Люкеру. Первой англоязычной монографией о Грине стала книга Люкера Alexander Grin [83], которая была выпущена в 1973 году в составе серии Bradda Books, посвященной биографиям русских писателей и поэтов ХХ века. Следующая монография о Грине Alexander Grin: The Forgotten Visionary [84] (1980) тоже принадлежала авторству Люкера. Книга на момент публикации являлась весьма ценным источником информации о личности и биографии Грина, поскольку в нее были включены недоступные советскому читателю архивные материалы: неопубликованные письма, фрагменты воспоминаний и статьи Нины Грин, Веры Калицкой, Виктора Шкловского, Ивана Кремлева и других. Кроме того, в книге Люкера были опубликованы редкие фотоматериалы. Далее мы должны упомянуть журнальные публикации, вышедшие в период с 1974 по 1987 год. Как уже было сказано, большая часть из них принадлежит Люкеру. Это статьи в таких известных академических изданиях, как Russian Literature Triquarterly [85], Russian and Slavic Literature [86], Russian Literature and Criticism [87] и New Zealand Slavonic Journal [88]. Кроме того, в 1976 году в журнале Slavic and East European Journal вышла исследовательская статья Барри Шерра (Barry Scherr) [89]. Ее автор произвел интересную попытку сопоставить жанровую природу произведений Грина с классической волшебной сказкой.
-- Нам известно, что помимо перечисленных гриноведческих работ за несколько последних десятилетий в университетах США были защищены по крайней мере три диссертации на соискание докторской степени (мы назовем их в хронологическом порядке): Б.П. Шерр (B.P. Scherr) The Literary Development of Aleksander Grin (University of Chicago, 1973); С.С. Каподилупо (C.C. Capodilupo) Plot Architectonics in the Novels of Aleksander Grin (Yale University, 1975), Р.В. Ротсел (R.W.Rotsel) A.S.Grin: Thematic Development in his Short Stories and Tales (University of Pittsburg, 1981).
Американские исследователи в
период 1973-1981 годов рассматривали развитие гриновской
образной системы как на основе биографии самого писателя,
так и в контексте текущей политической обстановки. Эта
тенденция сопоставима с советским стилем гриноведения – но
как бы в зеркальном отражении. В американском варианте Грин
из «социалистического» писателя был превращен в
«анти-социалистического». Тем не менее, американские
исследователи учитывали и фактор контекста прошлой и
настоящей (современной Грину) русской литературной эпохи. Западные исследования жизни и творчества Грина не ограничиваются англоязычными публикациями. Значительное количество статей было опубликовано в академической периодике Франции. Первая публикация французского исследователя Жана Круаза (Jean Croise) о русском писателе вышла в 1959 году. За ней последовали статьи Клода Фриу (Claude Frioux) в 1961 и 1962 годах. Особо следует отметить гриноведческие работы французского литературоведа Поль Кастан (Paul Castaing). Его первая статья вышла в академической периодике в 1971 году, а в 1997 году он стал автором первой франкоязычной монографии о Грине L’évolution Littéraire d’Aleksandr Grin de la Décadence a L’idéalisme [91]. Кроме того, в 1997 году вышла развернутая статья французского исследователя Жанны Вилленов (Johanne Villeneuve), посвященная рассказам Грина 20-х годов [92]. В ней анализируется репрезентация Октябрьской революции в творчестве писателя. Есть повод говорить и о существовании немецкого гриноведения. В 1988 году в Потсдаме (тогда – на территории ГДР) прошла научная конференция, посвященная творческому наследию Грина: его генезису, специфике и актуальности [93]. Материалы конференции были изданы в 1989 году [94]. Несмотря на то, что литературоведение ГДР копировало советский подход к рассмотрению произведений Грина, в сборник вошли некоторые интересные работы немецких исследователей. Гриноведение было развито и в странах так называемого социалистического и пост-социалистического лагеря. В этом ряду необходимо отметить работы болгарских, чешских и польских исследователей. Одной из первых болгарских публикаций стала статья Ирины Сукиасовой, опубликованная в 1970 году в журнале Език и литература [95]. Она была посвященная текстологическому анализу ранних черновых вариантов романа Грина Бегущая по волнам. В том же издании в 1975 году появилось исследование Анастасии Коневой, в котором анализировались странные психические состояния героев гриновских рассказов [96]. В польском литературоведении имя Грина зазвучало в начале 70-х годов. Статья, анализирующая прозу Грина, вышла в академическом издании Польши Studia Rossica Posnaniensia (Познань) в 1973 году. В 80-х годах в Польше была опубликована гриноведческая монография [97] – по-прежнему одна из немногих гриноведческих монографий за пределами СССР и пост-СССР. Книга принадлежала авторству польского гриноведа из Познани Ежи Литвинова (Jerzy Litwinow), который принимал также активное участие в организации и проведении упомянутой немецкой конференции в Потсдаме (1988). В то время в Польше, как и в других странах соцлагеря, было немыслимо отступление от норм советского литературоведения. Однако даже в этих условиях польская школа гриноведения создала почву, на которой в 1995 году появилась оригинальная работа Изабеллы Малей (Izabella Malej) «Традиции импрессионизма в пейзажах Александра Грина» [98]. Автор статьи анализирует влияние эстетики импрессионизма на раннее творчество Грина. Техника описания пейзажа в рассказах Грина роднит его, с точки зрения автора, не только с европейским импрессионизмом, но и с японским искусством. Исследователь очень тонко подмечает нюансы гриновского пейзажа - тон, колорит, динамику - рассматривая тексты Грина как художественное полотно эпохи модернизма. Не менее оригинальные гриноведческие работы можно обнаружить в чешской академической прессе. Особенно интересной, с нашей точки зрения, является статья Златы Вокас (Zlata Vokac) «Преломленные миры Александра Грина и Франца Кафки» [99]. Автор проводит параллель между двумя писателями, резко отрицая привычную доктрину советской критики о принадлежности Грина к социалистическому реализму. По мнению Вокас, Грина следует рассматривать как писателя, близкого к сюрреализму. Мы упомянули лишь наиболее значимые публикации гриноведов, живущих за пределами СССР/России. Помимо них существуют другие издания, не вошедшие в данный обзор. Однако общей тенденцией для западного и славянского гриноведения являются:
на верх страницы - к содержанию - на главную |
||||||||
|
|||||||||