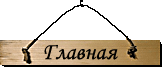|
|||||||||
|
Владимир Сандлер
- Жизнь Грина в письмах и документах Из «Автобиографической повести» мы знаем, какая, достойная Гоголя комедия, разыгралась в стенах реального училища. Перечитайте еще раз это место, а затем сравните с записью в журнале инспектора. Несомненно, вы сразу же обратите внимание на поразительное расхождение в датах. Середина октября в Вятке — осень, а в повести дело происходит зимой. Дальше — больше. Проверяю по спискам - оказывается, никакого Маньковского не существует, как не существует и преподавателя Капустина. Конечно, Маньковского вполне может заменить Паньковский, а Капустина — Пинегин. Дело не в этих «описках памяти». В журнале инспектора сказано: «Во время урока немецкого языка писал неприличные стихи...», а в «Повести» стихи были написаны заранее, и Саша всем давал их читать! Судя по всему, инспектор был человек крайне педантичный. Несомненно, Грин драматизировал события, придал им несколько гротескный характер. По-видимому, история с Маньковским и побегом в Америку — плод фантазии писателя. Познакомившись с документами реального училища, я попросил заведующую читальным залом показать мне журнал инспектора городского четырехклассного училища, в которое Саша Гриневский поступил после реального. - В Вятке было
двенадцать городских четырехклассных училищ, — сообщила
заведующая. — Какое именно вас интересует? В тот первый приезд в Киров мне так и не удалось отыскать документы городского училища. Документы же реального училища породили сомнение в достоверности «Автобиографической повести», Что это: простая забывчивость или нечто более сложное и важное? Я рассматриваю старинные открытки с изображением Вятки. Вот Александровское реальное училище, вот улицы, по которым бегал Саша Гриневский, здесь он сражался с лопухами и крапивой, здесь открылся ему огромный, сверкающий, дразнящий и влекущий мир, он увидел его в своем воображении. Для этого театра переписывал он пьесы, здесь же играл крохотные роли статистов, появляющихся с неизменной фразой: «Кушать подано!» -- Недавно писатель и краевед Е. Д. Петряев рассказывал мне, что по воспоминаниям старожилов, у этого, уже не существующего, театра был удивительный занавес с пальмами, крокодилами и прочими экзотическими атрибутами. Это не была какая-нибудь пошлая картинка, намалёванная ремесленником. Нет, занавес звал и обещал, создавал настроение. Почему же Грин в "Повести" ни словом не упомянул об экзотическом занавесе? Тоже забывчивость? О театре в книге его говорится только как о заведении, рабски эксплуатирующем труд ребёнка за переписку пьесы для театральной труппы ему платили пять копеек с листа, "записанного кругом". Экзотический занавес не понадобился Грину. Он - праздник. А праздник невозможно совместить с театром, который показан в "Повести", как одно из звеньев проклятой вятской жизни. Почему, собственно, проклятой? Мы привыкли говорить о старой Вятке, как о страшном медвежьем угле. Но писатель не рожадется на пустом месте: среда, традиции, которым мы обычно уделяем слишком мало внимания, — все влияет на формирование души. В Вятке были библиотеки, частные и общественные, были люди, которые о многом могли рассказать, были кружки учащихся, читавших запрещенные книги... Об этом превосходно рассказано в книге Евг Петряева «Литературные находки». |
||||||||
|
|||||||||