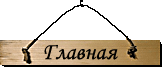|
|||||||||
|
Леонид Борисов -
Александр Грин Года три спустя Грин, не желая кого-либо учить, научил меня еще одному приему художника. Читал свой рассказ Алексей Павлович Чапыгин. Рассказ назывался «Залом». В некоторых местах своего рассказа Чапыгин смеялся, эти места отмечал для себя на бумажке Грин. Кончив читать, Чапыгин крякнул и спроси: -
Ну, как? Чапыгин, пожав плечами, согласился. Я осторожно вставил замечание. - Позвольте! Но ведь читатель не услышит этого смеха! Этот смех слышали мы, — нам читал свой рассказ сам автор. У читателя будет в руках журнал! Грин повернулся в мою сторону и, полузакрыв глаза, назидательно проскандировал: - За Чапыгина будет смеяться его фраза, та, при чтении которой Чапыгин засмеялся — И миролюбиво добавил — Фраза — это вам не глина в руках скульптора! Глина — утаит, слово — выдаст. Мне рассказывали - Грину представили молодого человека: - Ваш поклонник, давно мечтает познакомиться с вами. Грин забыл всё и всех. Он уединился с поклонником своим и долго, внимательно и отечески беседовал с ним. Поклонник ушел, Грин помрачнел: - Дело в том, что я еще в разбеге, — будто бы сказал Грин. — И пока что пишу то, что бежит на меня, задевает, увлекает. А этому молодому человеку хочется, чтобы я отобразил текущую действительность. Резко затормозить — опасная штука, можно голову сломать. Я еще лечу, плыву, я еще не сказал всего своего. А разве «Алые паруса» не современная вещь? Невнимательные вы, ей-ей. Вот проживу еще лет двадцать и напишу роман о Павле Первом, о перелете птиц, о студенте, который отлично учится. -- В ту пору Грину было не больше сорока пяти лет Его знали, любили, мигали, о нем ни словечком не обмолвились критики. Он был в полном цвету, замыслов его хватило бы на сто печатных листов. Большая любовь к жизни и ее коллизиям управляла всеми поступками, жестами, обыденными разговорами Грина. Больно и грустно, что его нет с нами. Ему сегодня было бы пятьдесят девять лет(3). Возможно, что он и написал бы роман о студенте, который отлично учится. А если бы и не написал, то, во всяком случае, не изменил бы себе в главном не приспособился бы к той теме, поднять которую он не сумел бы, запаха которой он не ощутил бы. - Следует показывать жизнь такою, какая она есть в твоем умении ее показывать, — сказал мне Грин летом 1928 года, когда он приезжал в Ленинград с романом своим «Джесси и Моргиана». И, прощаясь со мною, добавил: - Вот выйдет, бог даст, моя новая книга, и в этой книге я рекомендую вам прочесть особенно внимательно главу третью, вернее — начало главы, то место, где у меня написано о леди Годиве. Вот это место: «...Джесси обошла все нижние комнаты; зашла даже в кабинет Тренгана, стоявший после его смерти нетронутым, и обратила внимание на картину «Леди Годива». По безлюдной улице ехала на коне, шагом, измученная, нагая женщина — прекрасная, со слезами в глазах, стараясь скрыть наготу плащом длинных волос. Слуга, который вел ее коня за узду, шел, опустив голову. Хотя наглухо были закрыты ставни окон, существовал один человек, видевший леди Годиву, — сам зритель картины; и это показалось Джесси обманом. «Как же так, — сказала она, — из сострадания и деликатности жители того города заперли ставни и не выходили на улицу, пока несчастная наказанная леди мучилась от холода и стыда, и жителей тех, верно, было не более двух или трех тысяч; а сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! И я в том числе. О, те жители были деликатнее нас! Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу нарисуй внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании — потому что слышат медленный звук копыт — столпились жильцы; они молчат, насупясь, один из них говорит рукой «„ Ни слова об этом! Тсс!" Но в щель ставни проник бледный луч света то и есть Годива!». назад :: содержание |
||||||||
|
|||||||||