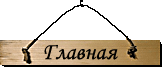|
|||||||||
|
Автобиографическая повесть.
Бегство в Америку Я продал букинисту одну книгу покойного дяди "Католицизм и наука" за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинных ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я вошёл в училище. На душе у меня была скверно. Предчувствия мои оправдались, Маньковский шепнув "сейчас подам", поднял руку и сказал: "Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского". Учитель разрешил. Класс притих. Маньковского со стороны дёргали, щипали, шипели ему: "Не смей, сукин сын, подлец!" - но, аккуратно обдёрнув блузу, плотный, чёрный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок, скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел. Преподаватель этого часа был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел. - Гриневский Я встал. - Это вы писали? Вы пишете пасквили? - Я... Это не пасквиль. От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: "Я погиб". - Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую. Я вышел плача, не понимая, что происходит. Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут. Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича, лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привёл меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату — в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками. За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит. - Гриневский, — сказал, волнуясь, директор, — вот вы написали пасквиль... Ваше поведение всегда... подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только добра... Он говорил, а я ревел и повторял: "Больше не буду!" При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора» Как только чтение касалось одного из осмеянных — он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор. Только инспектор — мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник — не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков. Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору. Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду — так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску За перелеском была речка, дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес. -- Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал, мне предстояло идти в Америку. Голод взял свое, — я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме, в ранце, с гербом на фуражке! Я сидел долго. Стало смеркаться, унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег, ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега. Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела — теперь смутно почувствовал я истину жизни необходимость знаний и силы, которых у меня не было. Когда я пришёл домой, был уже темно. Охо-хо! Даже теперь жутко всё это вспоминать. Слёзы и гнев матери, гнев и побои отца, крики: "Вон из моего дома!", стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера, каждый день пьяный отец (от сильно пил), вздохи, проповеди о том, что "только свиней тебе пасти", "на старости лет думали, что сын будет подмогой", "что скажут такие-то и такие-то", "тебя мало убить, мерзавца!" - вот так, в этом роде, шло несколько дней. Наконец буря утихла. Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали. Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьёзно, с тем, чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился. Меня исключили. В гимназию меня отказались принять. Город, негласно, выдал мне уже волчий, неписанный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день. Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища (6). |
||||||||
|
|||||||||