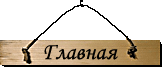|
|||||||||
|
Литературная критика -
Романтический мир
А. Грина Жестокость тюрьмы охладила романтический пыл Грина, хотя он вел себя здесь, как и под судом и следствием, очень достойно (Э. Арнольди совершенно прав, утверждая, что хотя «жестокие условия жизни превратили борца в наблюдателя», «он не переметнулся... по ту сторону баррикад» (Э. Арнольди. Беллетрист Грин.— «Звезда», 1963, № 12, стр. 180)), а подавление русской революции окончательно убедило его в бессмысленности избранного эсерами пути. К тому же он обрел, неожиданно, свое подлинное призвание — писательство — и отошел от активной политической деятельности. Все дальнейшие мытарства Грина — жизнь под чужой фамилией, две ссылки — были непомерным наказанием за «грехи» юности: карательная машина продолжала двигаться по инерции.
Отношение Грина к эсерам до конца жизни
оставалось не
столько гневно-критическим, сколько снисходительным
отношением взрослого человека к детским забавам. В 1908
году в рассказе «Маленький комитет» он с юмором изобразил
«революционера» Геника («Генику двадцать лет... он верит в
свои организационные таланты и готов помериться силами даже
с Плехановым» — 1, 191), который приехал из центра
инспектировать периферийный партийный комитет, но обнаружил,
что весь комитет давно в тюрьме, а его функции успешно
выполняет маленькая, хрупкая девушка, бывшая посыльная
комитета. А в 1931 году с не меньшим юмором вспоминал о
своем знакомстве с севастопольскими эсерами: «Киска» была
центром севастопольской организации. Вернее сказать,
организация состояла из нее, Марии Ивановны и местного
домашнего учителя, административно-ссыльного. Несмотря на легкость гриновского тона, значения его связи с эсерами нельзя недооценивать. Эсерство скомпрометировало в глазах писателя революцию своим бессмысленным терроризмом, разочаровало его в успешности насильственных методов борьбы, а тюрьма и ссылка довершили начатое дело и определили общественные взгляды Грина на много лет веред. Вплоть до февраля 1917 года Грин находился на позициях прогрессивности и демократизма либерально-буржуазного толка (Именно с этих позиций написаны «Флюгер» («Новый Сатирикон», 1915, № 9, стр. 6—7), «Встреча» («Новый Сатирикон», 1915, М4 12, стр. 7), «Журналист в беде» («Новый Сатирикон», 1914, № 42, 92 стр. 10) и другие произведения), не поднимаясь в своей позитивной программе выше проповеди абстрактных идеалов любви, свободы, природы, правды и красоты. В эпоху последних и решительных классовых боев пролетариата этой программы было ятю недостаточно. Неотчетливость ее становилась особенно заметной, когда речь в произведениях Грина заходила о будущем обществе. До революции Грин смотрел на прогресс весьма пессимистически — его высказывания порой совпадали с самыми мрачными мыслями его героев. Крайне любопытен в этом отношении ответ писателя на анкету «Синего журнала» «Что будет через 200 лет?»: «Человек ... останется этим самым, неизменным», «леса исчезнут, реки, изуродованные шлюзами, переменят течение... Человечество огрубеет...» («Синий журнал», 1914, № 1, стр. 11) Как близки подобным утверждениям слова Барона: «Лю¬ди везде скоты» («Третий этаж» — 1, 176) или Блюма: «Придет время, когда исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу» («Трагедия плоскогорья Суан» — 2, 190)! В рассказе «Убийство романтика» (1915) Грин рисовал «машинный век», механическое общество конца XX столетия. «Ревнители простоты» убивали в нем последних оставшихся «людей с большими сердцами». Художника Эгана осуждали на смерть в 1985 году за то, что его деятельность «идет вразрез с требованиями века»: «Демократии враждебно мечтательное, отвлеченное содержание картин Эгана...» («Северная звезда», 1915, № 6, стр. 63). Но, пожалуй, наиболее беспощадно будущее было изображено в маленьком гротеске «Шедевр» — злой пародии на живопись «социалистического», по представлениям Грина, искусства. Социализм Грин отождествлял здесь с предельным утилитаризмом и механистичностью — над входом на выставку 2222 года висела инкрустация из пробки: «Печной горшок (да-с) мне дороже: я пищу в нем себе варю»; пейзажи изображали «грядки, засеянные петрушкой», и «трудолюбивых муравьев»; натюрморты были составлены из «гаек, солдатских пуговиц, сверл, гвоздиков больших и малых и болтов от домкратов»; жанровые картины пропагандировали «полировку дымовых труб» («Свободная Россия», 16 июня 1917 года). -- Февраль 1917 года Грин встретил восторженно. Как эсеры в свое время показались ему единственно возможной революционной силой, так и буржуазно-демократическая революция была принята им за единственно возможную и окончательную революцию. Писателя пьянило и вдохновляло зрелище «волн революционного потока». Против Финляндского вокзала он увидел «нечто изумительное по силе впечатления: стройно идущий полк. Он шел под красными маленькими значками» (А. С. Грин. Пешком на революцию.— Альманах «Революция в Петрограде». Пг., 1917, стр. 24). Вероятно, именно это впечатление Грин попытался выразить в наброске неопубликованного стихотворения:
В
толпе, стесненной и пугливой, Февраль вселил в Грина реформистские иллюзии, надежды на подлинный демократизм. Он ждал теперь успокоения «волн революционного потока», которые стали не в меру бурными. Но волны не утихали. Надвигалась новая революция. За какую-нибудь неделю до Октября Грин изобразил восстание к своей стране. На улицах Зурбагана строились баррикады. Противоборствующие партии возглавляли Президион, делающий «все для других», и Ферфас, делающий "все для себя". Не зная, кому отдать предпочтение при всенародном голосовании, избиратели отказывались от обоих вождей. Те принимали смертельный яд, а через несколько дней новый Ферфас и новый Президион начинали борьбу за власть. Социальная история общества в рассказе «Восстание» выглядела как бессмысленное движение по кругу. на верх страницы - назад - вперёд - к содержанию - на главную |
||||||||
|
|||||||||