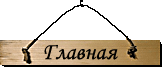|
|||||||||
|
Литературная критика -
Поэзия и проза Александра Грина Люди и смерть. Напрасно бы мы и здесь старались усмотреть разоблачение эсеровщины — мол, революционеры не знают, за что умирают, «за централизованную или федеративную республику» — дело совсем не в этом. Перед нами рассказ философского плана, как, скажем, «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева, под влиянием последнего и написанный. Жизнь и смерть. Страх смерти, заглянувшей в глаза. В промежутках между грохотом стрельбы наступает какая-то роковая тишина: «беспощадная», «звонкая, светлая», «глубокая, светлая». Один из троих, Барон, спрашивает себя, почему он стал революционером: «Если бы он не хотел жить, не томился по яркой, интересной, сложной жизни, разве сделался бы он революционером? Да нет же, нет!..» (1,176). Это автобиографическое. Добавим: по тому же самому Грин стал писателем, когда увидел, что революционная деятельность не дает непосредственных результатов. В рассказах 1908 года важную роль играет идеальное — категории детства, молодости, жизни, понятые как источник поэзии, прекрасного, хотя в общем довольно абстрактно,— стоит нам сопоставить понимание прекрасного у Грина с пониманием его у Горького. Несмотря на внешнюю реальность рассказов 1908 года, идеальное все нарастает в них, и мы уже чувствуем, как мешает Грину эта внешняя реальность, как внутренне готов он освободиться от нее, чтобы целиком перейти к идеальному творчеству.
В 1908 году Грин пробует
различные пути в «поэзию». Один из них — через познание
загадок человеческой психики. «Чувствую, один поворот мысли,
и пойму, понимаете,—пойму и разрушу все, всю загвоздку
смерти и жизни, как дважды два—четыре...» — говорит герой
рассказа «Мат в три хода». И, очевидно, разрешает
«загвоздку» — «мертвый, с успокоившимся лицом, залитый
электрическим светом» (1,207). Это один из «рассказов о
странных характерах», как их называл сам Грин, обозначивших
заметную, хотя далеко не главную линию его творчества; в них
Грин блеснет причудливыми вымыслами своей фантазии,
мистифицируя читателя, словно забавляясь его удивлением. Однако Грин недолго выдерживает блоковский высокий тон — всегда, как писатель, он жаждал и стремился к конкретности,— и мы постепенно узнаем, что герой, очевидно, революционер, важный государственный преступник, заключенный на пять лет в крепость, разыскивает любимую девушку Веру. «Она — его солнце, его жизнь» (1,168). И он находит ее — на экране, в игре света. Этот путь наметился еще в рассказе «Карантин» в размышлениях Сергея о безрадостности и серости городской жизни. «Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы — иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпиграфом к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованых, тяжелых страницах...» (1,127). В этих несовершенных строках — зерно многих гриновских сюжетов: герой отправляется на поиски Несбывшегося, Мечты, и она предстает в образах героинь — поэтичнейшая галерея женских характеров будет создана Грином! И наконец, Грин создает свой идеал из «детского», то есть из самых естественных и искренних, по его мнению, движений человеческого сердца, ясных, открытых чувств, смелости и самоотвержения, присущих радостно-прекрасному детскому миру нормально развивающегося ребенка. -- Веками обращались художники к бессмертным творениям античного искусства. Маркс объяснил всеобщий секрет его притягательности сопоставлением с детством. Для Грина «античностью» стал прекрасный мир души ребенка. Для него этот неиссякаемый источник поэзии был глубоко личным явлением — его душа не испытала в детстве поэзии, вернее, поэтического слияния с миром. Внешне совершенно реальный рассказ «Рука», наполненный до мелочей знакомыми реалиями вагонного быта и дорожных настроений, с героем по фамилии Костров, едущим от Твери (где-то под Тверью, вспоминаем мы, Грин находился в карантине), с молоденькой спящей соседкой — все, все надоедливо знакомо, даже банально, но ожидаемое дорожное приключение заменяется длинными размышлениями Кострова, поправить ли девушке неудобно положенную затекающую руку. И все-таки этот рассказ идеален в высшей степени! Это очень гриновский рассказ, предвестник «вочеловечивающих», наиболее зрелых новелл 20-х годов. Костров, по всему видно, уставший от жизни человек, опутанный тысячами условностей, издерганный и одинокий, вдруг взглядывает на девушку иными глазами. «Лицо и фигура ее дышали нежной детской доверчивостью существа юного в жизни телом и духом» (1,154). «Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны». К «детскому» Грин старается прибавить еще прекрасное, правда, делает это не лучшим образом — при помощи сравнения, захватанного многими руками. Но дело не в том. «Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой» (1, 155). Вот здесь уже настоящий Грин. После этого Костров опровергает — действием — «глупую и подлую логику жизни». В нем рождается «вера в силу искренности» (1,157). С 1909 года Грин переходит к идеальному творчеству. на верх страницы - назад - вперёд - к содержанию - на главную |
||||||||
|
|||||||||