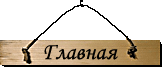|
|||||||||
|
Литературная критика - Поэзия и проза Александра Грина 11 июня 1906 года он бежал из сибирской ссылки. В Москве встретился с Н. Я. Быховским, и тот попросил его написать агитку для солдат-карателей. Через несколько дней появился рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», а за ним и второй — «Слон и Моська». Автор не увидел своих рассказов напечатанными: весь тираж первого уничтожила полиция, был рассыпан набор второго. О достоинствах рассказов говорить не приходится. Длинноватые, перегруженные описаниями солдатского быта, они обнаруживают откровенный агитационный расчет. «Все правда! Автор про нас знает!» — должен сказать, прочтя или услыша рассказ, читатель-солдат. Однако посмотрим на первое произведение писателя не с точки зрения А. С. Г. (так были подписаны агитброшюры), максималиста-неудачника, полуобразованного бродяги, скитальца и мечтателя, революционера-любителя, а перспективно — с точки зрения А. С. Грина, замечательного романтика и создателя «Алых парусов». Наряду с прямолинейным агитационным содержанием, присущим такого рода литературе, рассказы обнаруживают и эстетический, гриновский аспект, сказавшийся, может быть, неосознанно для автора, сам собою. В «Заслуге рядового Пантелеева» изображена «запуганная и обезличенная человеческая масса», которая, казалось, могла молиться только «языком барабанов, мерным и сухим, как и все в жизни солдата» (1,431). Прямая гриновская мысль об антиэстетичности и бездуховности бытия. Над серой массой — розовые облака. Кроткие, ясные слова тысячелетней молитвы «говорили о какой-то другой, далекой, как небо, жизни, жизни добрых, спокойных, трудолюбивых людей» (1,431). В принципе эти первые строки рассказа уже определяют устремления всего последующего Грина: от антиэстетического объекта к идеалу («розоватые облака»), констатируется разрыв, затем от идеала — к тому же объекту с целью преображения его на началах прекрасного. От «земли» к «небесам» и вновь к «земле». Как это ни парадоксально па первый взгляд, в «Заслуге» уже есть «Алые паруса», подобно тому как в детских набросках талантливого художника уже угадывается будущий мастер. Есть в рассказе и гриновский мотив извращенной красоты. В трактире Колюбакина играет граммофон, слушая который нельзя понять, «пилят ли это железо или «Аиду»; поручик Козлов поет протяжную красивую песню, и вслед за этим появляется пьяный, красный ротный командир-каратель. В картине избиения мужиков: «Ад стоял на улице». «Ад» и «рай» — особые, лейтмотивные слова, проходящие через все творчество Грина. Алые лужи крови и бархатный малиновый жилет с толстой золотой цепью у станового. Черный дым от горящих крыш взлетает к небу. Здесь брезжит гриновская символика цвета, пунктирно возникают характерные гриновские образы. В том же 1906 году 5 декабря в газете «Биржевые ведомости» Грин помещает рассказ «В Италию», а 25 марта 1907 года в газете «Товарищ» напечатан рассказ «Случай», под которым впервые появляется подпись: А. С. Грин. --
Рассказы 1906—1907 годов
объединены в книгу, в начале 1908 года она выходит под
наименованием «Шапка-невидимка». Один из этих рассказов —
«Случай»— о расстреле карателями ни в чем не повинного
крестьянина Бальсена — как бы продолжает тему рассказа
«Заслуга рядового Пантелеева», другой — «Кирпич и музыка» —
передает эпизод из уральских странствий Грина, остальные в
большей или меньшей степени воспроизводят будни, «дни и
ночи» подпольных организаций террористов. Словом, книга, как
нередко бывает у начинающих, построена на автобиографическом
материале. Тайная, скрытая ото всех людей жизнь:
террористический акт, уничтожение провокатора, тюремный быт,
поединки с ищейками и агентами охранки. Вероятно, отсюда и
название книги. Однако, надо полагать, Грин, писатель, весьма ответственно относившийся к литературе, имел в виду что-то более значительное. Посмотрим на композицию книги — в какой последовательности расположены рассказы. Книгу открывает рассказ «Марат». В нем революционер Ян, готовящийся к террористическому акту, яростно проповедует уничтожение врагов. «Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа» (1,61). Однако не может бросить бомбу в карету, где, кроме намеченной жертвы, находились еще женщина и ребенок. Можно заметить связь «Марата» с рассказом Леонида Андреева «Губернатор» (1906). «Хороший человек, если будет стрелять, так непременно либо промахнется, либо устроит какую-нибудь глупость, от которой попадется, потому что душа его стоит против того, что делает его рука» (Андреев Леонид. Повести и рассказы. М., 1957, с. 340.). Александр Грин словно бы освещает другую сторону событий, не рассказанную Андреевым, у которого в центре внимания стоит обреченный на смерть «законом-мстителем» губернатор. У Андреева губернатор — убийца детей, у Грина «Тамерлан в миниатюре» Ян, приговоренный к смерти революционер, не способен убить ребенка. У Андреева конфликт смазан абстрактно-философскими рассуждениями об извечном законе мщения — кровь за кровь, мщение осуществляется механически, само собой, с помощью руки судьбы; Грин показывает человека, который опровергает этот закон строго сознательным, гуманным решением, несмотря на свою проповедь ненависти и уничтожения врагов «с корнем»: гриновский Марат сам, в сущности, «как дитя» (1,62). на верх страницы - назад - вперёд - к содержанию - на главную |
||||||||
|
|||||||||